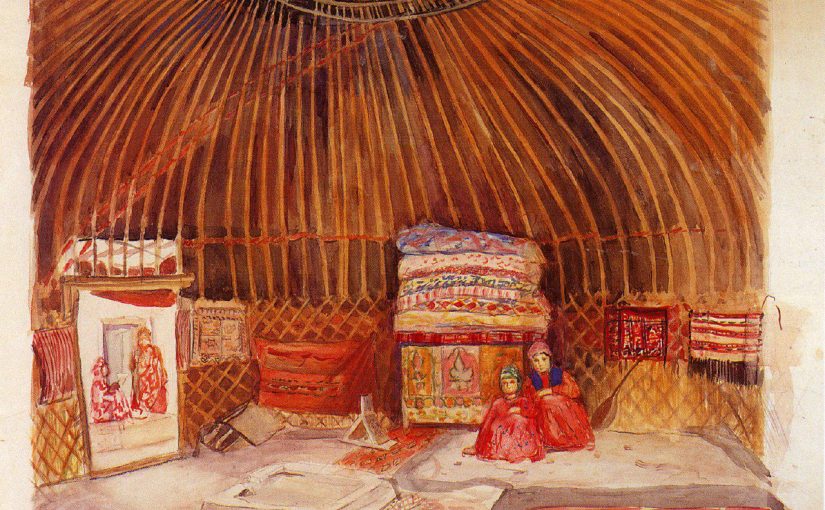«Колонизаторы с партийными билетами»
Советский внутренний колониализм в Центральной Азии 1917-1939
Беньямин Лоринг
Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History,
Volume 15, Number 1, Winter 2014
Перевод осуществлен при участии Репост Революции
В ноябре 1929 года, вскоре после ноябрьского Пленума и объявления массовой коллективизации, Сталин получил письмо от молодого кыргызского чиновника по имени Юсуп Абдрахманов. Тогда, в свои 28 лет, Абдрахманов был председателем Совета министров Кыргызской Автономной Советской Социалистической Республики (АССР). Кыргызская АССР, расположенная к югу от Казахстана на границе с Китаем, была тогда небольшим регионом Российской Советской Федеративной Социалистической республики (РСФСР), возникшим всего за несколько лет до этого в ходе так называемого «национального размежевания» Центральной Азии. Как и другие чиновники во многих отдаленных регионах Советского Союза, лидеры Кыргызстана, в том числе Абдрахманов, боролись за продвижение интересов этой малоизвестной территории. В своем письме Абдрахманов настаивал на усилении местного контроля по экономическим вопросам. Он утверждал, что «тройная подчиненность» Кыргызстана — СССР, РСФСР и различным региональным органам в Центральной Азии — замедлило развитие территории, потребовав, чтобы ее руководители координировали свою политику между тремя центрами, ни один из которых не понимал местных экономических и социальных реалий. В частности, государственное предпочтение производства зерна (оккупации Кыргызстана преимущественно славянскими поселенцами) в противовес животноводству (сектор, в котором было занято большинство этнических кыргызов) выступало в пользу меньшинства переселенцев и против коренного большинства и угрожало сохранению и даже усилению экономических неравенств царской колониальной эпохи1. Абдрахманов утверждал, что это несоответствие противоречит заявленным Советским усилиям по «ликвидации реального экономического неравенства» между «отсталыми» регионами Советского Союза и более развитыми его регионами, тем самым «искажает национальную политику партии»2. Политика, неблагоприятная для кыргызского населения, имела даже международные последствия, так как неспособность Советского Кыргызстана догнать другие части Советского Союза произвела бы плохое впечатление на кыргызское население, живущее за границей в Китае. Решение этих проблем, подводил итог Абдрахманов, заключалось в конечном счете в преобразовании Киргизской АССР в союзную республику: «национальный состав населения (70% кыргызов), его внешнеполитическое значение и экономические возможности Кыргызстана [все] указывают на это [заключение]», — писал он3.
В этом письме Абдрахманов продемонстрировал бюрократическую ловкость согласования собственных амбиций (превращение Кыргызстана в союзную республику, предположительно с Абдрахмановым на ключевом посту) с политическими целями партийного государства (увеличение производства ключевых товаров и привлечение населения соседних стран). Но он также указал на важную особенность советской власти в Центральной Азии: частое противоречие между планами Советского Союза по экономическому развитию страны в целом и заявленной им целью продвижения интересов ранее маргинализированных этнических групп. Как показал пример Абдрахманова по производству зерна, эти два приоритета часто работали противоположно друг другу. В частности, он предупредил, что кыргызская АССР впадет в состояние экономической отсталости, если ее преимущественно кыргызской местной администрации не будет предоставлен больший контроль над экономической политикой и, в частности, большая свобода действий при осуществлении инвестиций в сельское хозяйство4. Эта тенденция была характерна не только для Кыргызстана: на всем Советском Востоке большевистские цели социального равенства и экономического развития — в сущности, полная деколонизация — для обездоленных этнических меньшинств часто сталкивались с экономическими и политическими приоритетами центральных институтов Москвы5. Как показывает Абдрахманов в своем обращении к Сталину «социалистическое строительство», направленное на развитие социалистической экономики в едином государстве при сильном центральном правительстве, и «национальная политика», направленная на содействие развитию каждой малочисленной этнической группы, слишком часто противоречили друг другу6.
Однако в Центральной Азии такие противоречия приобрели еще большее значение в связи с недавней историей царистского колониального господства в регионе. Среднеазиаты быстро интерпретировали любую привилегированность основных интересов сверхпериферии, как репризу русских колониальных взглядов и практики. В частности Абдрахманов прямо выразил эту точку зрения: в дневниковой записи от октября 1930 года он указывает на некоторых европейских членов администрации Киргизской АССР как на «колонизаторов с партийными билетами», когда они пытались сократить финансирование животноводства, преимущественно кыргызскую сферу деятельности7. Этот взгляд на Центральную Азию как на советскую колонию позже стал распространенным в западной литературе, посвященной этого региону. Эмигранты из Советского Союза, как правило, рассматривали советское правление в Центральной Азии как возвращение к царистскому имперскому господству, и западные ученые во время Холодной войны в целом поддерживали это утверждение8.
Фактически, советский колониализм заметно отличался от колониализма своего царистского предшественника. Разница была обусловлена советскими усилиями по политической и экономической интеграции региона в Союз, которые значительно отличались от прежней царистской административной и экономической политики, направленной на сохранение отделения региона от остальной империи. Кроме того, советский колониализм столкнулся с провозглашенными советским режимом целями и задачами: он возник не из-за преднамеренного, циничного обмана со стороны большевистского руководства, а скорее из-за непреднамеренного результата реакции режима на условия на мировом рынке. Как утверждает Оскар Санчес-Сибони в своей статье в этом номере, экономические кризисы 1920-х годов структурировали идеологические дебаты внутри советского руководства и принятой им экономической политики. К 1929 году, когда Абдрахманов написал свое письмо, основные опасения по поводу «принуждения к экспорту» и подавления импорта ограничили выбор политиков в Москве, лишили региональные власти какого-либо влияния на экономические решения и лишили жителей региона доступа к предметам первой необходимости. В Центральной Азии в рамках этой политики первоочередное внимание уделялось производству и поставкам сырья — главным образом хлопка — для улучшения внешнеторгового баланса СССР. Переориентируя региональную экономику для удовлетворения потребностей советской промышленности, советское руководство сделало Центральную Азию экономически зависимой от остальной части СССР ради торговли товарами и продуктами питания, гарантируя, что Центральная Азия не сможет спасти себя от «товарного голода» или других потрясений торговой системы. Кроме того, экономические отношения между Центральной Азией и остальной частью СССР структурировали политическую и культурную жизнь, влияя на повседневное существование жителей региона в гораздо большей степени, чем до 1917 года. Фактически, Центральная Азия из «заморской» колонии, управляемой издалека царистским правительством, превратилась во внутреннюю колонию Советского государства. Таким образом, экономическая интеграция в Советский Союз создала новые, более всесторонне подчиненные отношения между центром и периферией, качественно иные и гораздо более распространенные, чем в царистскую эпоху.
Колониализм и модернизация
За последние 15 лет ученые Центральной Азии высказали целый ряд мнений, обсуждая вопрос о том, можно ли правление Советского Союза в регионе назвать по праву «колониальным». Некоторые историки утверждают, что Советский Союз был колониальной империей, так же как Франция и Великобритания в Африке и Азии9. Несмотря на модернизационную повестку дня, которая стремилась сформировать советское гражданское общество из сотен этнических групп на своей территории, советское правление в Центральной Азии, да и на всем Советском Востоке, повлекло за собой (1) экономическую эксплуатацию ресурсов региона для улучшения метрополии, (2) принуждение коренного населения к соответствию западным культурным нормам в различных областях (одежда, семейная жизнь, гигиена, питание, воспитание детей и т. д.) и (3) систему политического контроля, которая подчиняла коренных жителей Центральной Азии европейским, русскоязычным большевикам. Центральное утверждение, что СССР был колониальной империей на предположении, что этническая разница между европейцами и подчиненными им коренными мусульманами Средней Азии (независимо от освободительной, антиколониальной риторики нового режима) и что большевики, невольно опираясь на опыт царской и вдохновленный западным типом «цивилизаторской миссии», навязали чуждую, западную систему норм и ценностей на порабощенное население10.
Другие ученые оспаривали эту «колониалистскую» точку зрения, утверждая, что советское правление в Центральной Азии представляло собой «активистское, интервенционистское, мобилизационное государство», целью которого была гомогенизация и модернизация общества11. Cоветский режим стремился отменить царистское «правление колониальных различий» (позаимствованный термин Партхи Чаттерджи для определения принципа правления в Британской Индии) и установить равенство между различными народами Российской Империи, включив их в политическую систему на равноправной основе12. Согласно этой точке зрения, советские усилия по изменению социального поведения и культурных норм в Центральной Азии не были основаны в первую очередь на вере в культурное превосходство России и не были уникальными для Советского Союза — они имели поразительное сходство с параллельными усилиями в Турции и Иране в то же время. Наконец, коммунистические чиновники из числа коренных народов Центральной Азии занимали важные посты в своих республиках и всем сердцем участвовали в советской трансформации, опровергая мнение о том, что она была полностью спроектирована посторонними13. В 1920-х и начале 1930-х годов, не только коренные низшие элиты плясали под дудку Москвы; они были динамичными лидерами в своем собственном праве, которые сделали общее с большевиками дело, видя в них союзников в культурной реформе14. Центральное место в этих дебатах занимают роль и последствия советской экономической политики в Центральной Азии — политики, которая имела первостепенное значение в отношениях режима с его азиатской периферией. Большинство ученых сходятся во мнении, что политика Москвы в Центральной Азии служила экономическим интересам центра и ставила Центральную Азию в зависимость от Советского ядра15. Хотя большинство ученых признают экономическую логику советского участия в Центральной Азии, они не связывают ее с социальным и культурным развитием, и до сих пор лишь немногие детально изучили, как эти экономические политики и практики были сформулированы в живом опыте жителей Центральной Азии16.
Советская экономическая политика не была простым совпадением с политическим и культурным развитием региона; скорее, она имела фундаментальную структуру. Например, экономические соображения, такие как доступ к рынку, часто влияли на этническую самоидентификацию в 1920-е годы, как мы видим, например, из ходатайств оседлых земледельцев Ферганской долины о включении в состав Узбекской ССР17. Макроэкономические факторы, такие как отказ Советского Союза от золотого стандарта на внутреннем рынке в 1926 году, послужили катализатором стремления государства увеличить производство хлопка при одновременном сокращении поставок зерна в регион, что привело к лишениям среди регионального населения — как европейского, так и местного — начиная с 1927 года. Строгий контроль Москвы над экономикой также, вероятно, оказал важное влияние на культурную жизнь, поскольку исключение местных кадров из процесса принятия экономических решений направило их энергию на развитие образования, языковую реформу, расширение прав женщин и закрытие религиозных учреждений. Инвестиции государства в производство зерна и хлопка (и фактический отказ от скотоводства), как предполагает Абдрахманов, привели к отчуждению многих кыргызских скотоводов и усилили напряженность между ними и оседлыми земледельцами, которые, как правило, не были этническими кыргызами. Эта экономическая перспектива дополняет обсуждение ранней советской истории и советской национальной политики, демонстрируя, что условные экономические факторы — международные торговые балансы, структура и доступность иностранных кредитов, приоритеты промышленных инвестиций, налогообложение и бюджетная политика — структурировали опыт, перспективы и поведение жителей Центральной Азии в их повседневной жизни в таких разнообразных областях, как этническая идентичность, религиозная практика и гендерные роли.
В данной статье предлагается анализ, который синтезирует оба взгляда на советскую центральную Азию — «колониалистский» и «модернизационный государственнический» — подчеркивая связь между советской экономической политикой, с одной стороны, и кристаллизацией советских идентичностей, с другой. Он предлагает понимание Центральной Азии в качестве внутренней колонии СССР, заимствуя понятие, озвученное Майклом Хехтером в своей работе 1975 года о кельтском национализме на Британских островах. Концепция внутреннего колониализма18 Хехтера выдвигает два основных аргумента. Во-первых, на региональном уровне предлагается, что отсутствие суверенитета у периферийных регионов «способствовало зависимому экономическому развитию, которое ограничивало бы их экономическое благосостояние и угрожало их культурной целостности»19. Этот «экономический аргумент» был центральным в анализе «Советского колониализма», особенно в упомянутой выше исследовании о холодной войне. Второй аргумент Хехтера проявляется на уровне отдельных людей: «отличительная этническая идентичность, независимо от индустриализации, по-прежнему остается актуальной для членов групп, которые являются объектом культурного разделения труда»20. Кроме того, члены таких групп, как правило, идентифицируются и идентифицируют себя на основе этнической принадлежности, а не социального класса. В этой концепции под культурным разделением труда понимается система, которая «отводит отдельным лицам конкретные роли в социальной структуре на основе объективных культурных различий»21. Система, в случае с СССР, была государственно-направленной социалистической экономикой, построенной в 1920-х и 1930-х годах. В советской Средней Азии, культурные различия — главным образом, этнос — стали критериями, по которым работники советских учреждений давали доступ граждан к целому ряду экономических ресурсов и социальных благ, в том числе трудовых, кредитных, а так же к продуктам питания, хозяйственным товарам, образованию и жилью. Таким образом, внутренний колониализм обострил культурные различия между членами доминирующей группы в центре (в данном случае «европейцами» в советском понимании этого термина) и подчиненными культурными группами, населяющими периферию (коренные жители Центральной Азии). В нем также были четко сформулированы различия между центральноазиатскими группами, поскольку членство в титульной национальности Союза или автономной республики часто приносило с собой преференциальный режим в поисках работы, образования или социальных льгот. Культурное разделение труда укрепило развитие культурной самобытности, повысив тем самым важность национальной идентификации. Эта статья утверждает, что Центральная Азия была такой внутренней колонией, и что в результате культурного разделения труда во время «социалистической трансформации» экономики региона его жители быстро приняли новые национальные категории как значимые рецепты идентичности и групповой солидарности.
Я подхожу к этой проблеме через три фазы. В первом разделе я рассмотрю, как экономика Центральной Азии развивалась в 1920-е годы в экспортно-зависимом режиме, который подчинял развитие Центральной Азии промышленным потребностям Европейской России и способствовал неравенству в Центральной Азии между европейцами и коренными жителями Центральной Азии. Затем я изучу политические последствия экономической зависимости, а именно потерю влияния Центральной Азии на экономические дела и политическую систему, которая жестко закрепила роль Центральной Азии в качестве поставщика сырья. Наконец, я исследую, как эта программная экономическая зависимость привела к этническому разделению труда, которое усилило национальную идентификацию среди коренных жителей Центральной Азии. Хотя в статье рассматриваются все центральноазиатские республики, в ней приводятся конкретные примеры, главным образом, из Кыргызстана, небольшой, экономически и демографически разнообразной территории, опыт которой в первые два десятилетия советской власти очень напоминал опыт других республик.
Экономическая зависимость
Важнейшим компонентом внутреннего колониализма является экономическая зависимость. Периферийная экономика развивается в дополнение к экономике промышленно развитого ядра и, таким образом, становится зависимой от рынков за пределами региона. По данным Хехтера, экономика внутренней колонии часто «держится на одном основном экспорте, либо на сельском или сырьевом хозяйстве»22. Соответственно, внешние по отношению к периферии силы, такие как торговая политика метрополии или ценовые колебания на внешних рынках экспортных товаров, в значительной степени определяют развитие транспортных и торговых путей, инвестиционные приоритеты и модели городских населений, миграции и режимов труда. В Советском Союзе реакция Москвы на экономическое давление 1920-х годов привела к политике агрессивного продвижения товарного производства в Центральной Азии любой ценой, тем самым породив степень экономической зависимости, гораздо большую, чем та, которую испытывал регион в царистские времена.
«Единым сырьевым экспортом» центральноазиатских республик был хлопок. Еще до царистского завоевания Туркестан — исторический регион, в состав которого входили территории современного Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и юго-восточные регионы Казахстана — поставлял на российские рынки пряжу и текстиль, а на российские фабрики — сырой хлопок. В первой половине XIX века на эти товары приходилось около двух третей стоимости российского импорта из региона23. После царистского завоевания посевные хлопковые площади быстро расширялись, российские предприниматели и чиновники привозили в регион американские сорта, а царистское правительство защищало промышленность льготными тарифами, налоговыми льготами и транспортными субсидиями.
Высокие рыночные цены на урожай еще больше подстегнули рост производства хлопка. К 1913 году почти пятая часть орошаемых земель в российском Туркестане была засеяна хлопком, и урожай приносил более половины доходов от туркестанского сельскохозяйственного производства. В то время Центральная Азия обеспечивала примерно половину потребностей России в хлопке24. Производство хлопка возросло еще больше с началом Первой Мировой войны, но резко упало после восстания 1916 года25. Насилие и беспорядки последующих лет нарушили ирригацию, истощили или вытеснили рабочую силу Центральной Азии и остановили большую часть торговли с внешним миром. К 1922 году посевные площади хлопчатника сократились до уровня, невиданного с 1880-х годов26.
Несмотря на риторику об освобождении Востока от колониальной эксплуатации, большевистское руководство Москвы и Ташкента никогда всерьез не колебалось в своем намерении восстановить дореволюционную роль Центральной Азии как поставщика товаров. Эта позиция может показаться лицемерной или обманчивой, но она соответствовала прежним высказываниям Ленина и других сторонников наиболее эффективного и рационального использования экономических ресурсов Советского государства27. Это также во многом было связано с горьким опытом экономического краха большевиков во время Гражданской войны. Потеря экономических связей с Украиной, Кавказом и Центральной Азией в 1918 и 1919 годах была почти катастрофической для режима и научила руководство Москвы тому, что эти регионы необходимы для выживания Советского государства, поскольку они снабжали его продовольствием и сырьем28. Более того, большевики считали, что эти экономические связи требуют централизованного контроля над региональными образованиями и их экономикой. В декабре 1922 года Иосиф Сталин сослался на «естественное, исторически сложившееся» разделение труда между регионами бывшей Российской империи как стимул для их объединения под советским знаменем в «единое экономическое целое»29. Хотя некоторые советские лидеры говорили о возможной индустриализации и диверсификации экономики в Центральной Азии в расплывчатых терминах, первым приоритетом было возрождение промышленности в самой России, а это означало восстановление Центральной Азии в качестве поставщика промышленных культур — в основном хлопка — и сырья30. В широком смысле этот сдвиг позволил бы СССР импортировать меньше хлопка (который составлял почти треть стоимости всего импорта в 1923/24 экономическом году) и экспортировать больше текстиля, тем самым улучшая внешнеторговый баланс и зарабатывая твердую валюту для покупки необходимого оборудования31.
Большевистское правительство использовало самые разнообразные методы, чтобы побудить производителей хлопка в Центральной Азии увеличить объемы производства после Гражданской войны, но это стоило больших затрат. Отражая советские рыночные подходы в ходе новой экономической политики (НЭП), усилия по повышению производства хлопка следовали логике стимулов. Между 1922 и 1926 годами правительство установило закупочную цену хлопка сначала в 2,5 раза, а затем в 3,0 раза выше рыночной цены зерна. Крестьяне в Центральной Азии наживались на выгодных ценах, предлагаемых государственными закупочными агентствами и кооперативами32. Посевные хлопковые площади быстро расширялись — от 171,255 соток в 1922 году в 1,412,915 соток в 1926 году — увеличение более чем в восемь раз, что также составляло 80% от показателя 1915 года, показателей дореволюционного хлопкового бума33. Советские государственные органы также предлагали различные формы помощи отдельным хлопководам вроде сельскохозяйственных кредитов, а также субсидии производственным кооперативам, которые предоставляли собой ссуды на семена, сельскохозяйственный инвентарь, вьючных животных и помощь в благоустройстве земель34.
Хотя эта политика позволила увеличить посевные площади, она была очень дорогостоящей, поскольку требовала от советских экономических ведомств обеспечения постоянных поставок зерна из Европейской России и Северного Кавказа для замены зерновых культур, вытеснивших хлопок. Это требование легло дополнительным бременем на советскую экономику, поскольку Москве необходимо было отвлечь зерно от жизненно важных экспортных рынков, тем самым усугубив торговый дефицит государства после 1925 года, когда государство могло себе это позволить меньше всего35. Кроме того, хотя хлопковые посевные площади были расширены, реальное производство не поспевало, урожайность на акр в 1924-26 составил менее 80% от их урожайности до революции, и различные формы помощи, оказываемой государством-спонсором кооперативам и учреждениям, больше не могли ее увеличивать36. Поэтому, в то время как «хлопкизация» могла обеспечить сырьевые ресурсы для реиндустриализации Европейской России, она обошлась дорого для правительства, стремящегося к жесткой бюджетной экономии и зависящего от экспорта зерна.
Центральноазиатский хлопок играл жизненно важную роль в экспортоориентированной экономике середины 1920-х годов. В то время на Центральную Азию (включая Казахстан) приходилось 75% внутренних поставок хлопка в Советский Союз37. Однако одно только внутреннее производство хлопка не могло удовлетворить потребности советской текстильной промышленности, которая была вынуждена импортировать 45% хлопкового волокна, использованного в 1926/27 экономическом году38. Импорт хлопка составил более 15% от стоимости всего импорта между 1924 и 192839. Кроме того, международные цены на хлопок могли сильно колебаться: цены на хлопок в сентябре 1927 года были на 55-60% выше, чем осенью 1926 года40. Высокие цены на импортный хлопок в 1927 году оказались особенно обременительными в свете низких цен, полученных для советского экспорта зерна. В то же время, экономические планировщики намеревались сделать хлопчатобумажную ткань важной экспортной отраслью и источником иностранной валюты для оплаты дальнейшей советской индустриализации. С этой целью стоимость экспорта хлопчатобумажной ткани выросла с 2,7% от стоимости всего экспорта в 1926/27 до 6,5% в 1927/28 годах, что сделало хлопчатобумажную ткань одним из самых ценных экспортных товаров в этом году, который превосходили только нефтепродукты и меха41. Текстильная промышленность могла бы еще больше увеличить объем производства, если бы ей давали хлопок из внутренних источников42. Поэтому, поскольку советское производство хлопка могло увеличиться для удовлетворения потребностей текстильной промышленности, государственные планировщики могли бы сократить расходы на импорт иностранных материалов и увеличить доходы от экспорта хлопчатобумажной ткани.
Поскольку хлопкизация отвлекала излишки зерна, необходимые для экспорта, советские экономические планировщики в конце 1926 года начали искать альтернативы щедрой рыночной системе ценообразования, которая фиксировала цены на хлопок в три раза выше стоимости зерна. Все чаще государство непосредственно участвует в производственно-распределительных сетях, используя принудительные «внерыночные» меры для максимального увеличения их потребления. В ноябре 1926 года новый указ отменил схему закупок 3 к 1 и заменил ее скидками на цены на зерно в хлопководческих районах43. Хотя это уменьшило государственные расходы на тонну закупленного хлопка, это также вызвало массовый рост все еще легальной частной торговли зерном. Частные торговцы не только скупали уцененное зерно в хлопковых районах и продавали его в других местах, но и зерно, поставляемое государственными учреждениями было, как правило, низкого качества (вероятно, оно представляло собой запасы, непригодные для международного экспорта). По данным среднеазиатского экономического совета, качество государственной пшеницы часто было настолько ужасным, что хлопководы отказывались ее покупать, предпочитая платить гораздо более высокие цены за местное зерно (что, конечно же, отнимало землю у хлопководства)44.
Одновременно большевистские власти поспешили реализовать программу земельно-водных реформ в хлопководческих районах Узбекистана, начиная с 1926 года. Очевидной целью программ была отмена «феодализма» в землевладении путем перераспределения пахотных земель помещиков в руки работавших на них земледельцев для организации крестьянских товаропроизводителей в поддерживаемую государством кооперативную торговую сеть. Фактически, это означало ликвидацию частной торговли и негосударственных источников кредитования, что позволило государству взять на себя большую долю общего урожая45. К 1928 году государственные учреждения — прежде всего, Государственный комитет по хлопку — заменили частные источники кредита, капитала, семейных кредитов и инвентаря. Комитет использовал свое монопольное положение для расширения производства хлопка по всей Центральной Азии46. В конечном счете, весной 1930 года с вынужденной коллективизацией, государство смогло значительно увеличить внутренние поставки хлопка и сократить импорт хлопка. Доля импорта хлопка в общем потреблении хлопка снизилась с 41% в 1927/28 экономическом году до 5,2% в 1932 году, хотя общее потребление увеличилось на 15%47. Поэтому полный успех хлопкизации повлек за собой прекращение рыночных механизмов раннего периода НЭПа и принятие принудительных подходов, включая коллективизацию, в рамках первого пятилетнего плана.
Из-за государственных приоритетов в зерновой области жители Центральной Азии, проживающие в хлопководческих районах, испытывали нехватку продовольствия задолго до начала массовой коллективизации в начале 1930 года. Не только сократились поставки зерна, импортируемые в регион, но и в этих районах посевные площади хлопчатника расширились за счет производства зерна. Начиная с лета 1927 года, районы, которые раньше могли прокормить себя, теперь периодически испытывали нехватку продовольствия. Это привело к резкому росту цен и периодическому дефициту зерна, в ответ на что чиновники в хлопководческих районах запретили частную торговлю зерном48. Зерновой кризис зимой 1927-28 гг. урезал поставки зерна из России, усугубив дефицит. Например, в январе 1928 года Узбекистан должен был получить из России 3,8 миллиона пудов (62 244 тонны) зерна, но получил только 40% от этого объема49. К 1929 году государство расширило свою монополию на торговлю, включив в нее большинство предметов домашнего обихода, и нехватка основных товаров в районах хлопководства стала обычным явлением. В Узгене, хлопко- и зернопроизводящем районе на юге Кыргызстана, в августе 1929 года у потребительских кооперативов полностью закончились кожаные изделия, сахар, чай, ткань и шерстяные материалы50. К 1929 году чиновники Объединенного Государственного Политического управления (ОГПУ) предупреждали о повсеместном недовольстве в связи с подавлением частной торговли, высокими ценами на зерно и потребительские товары и относительно низкими ценами, предлагаемыми производителям хлопка51. Поэтому разочарование в хлопкизации и государство-индуцированное обнищание коренных среднеазиатских производителей хлопка возникли даже до начала массовой коллективизации.
Хлопкизация Центральной Азии повлияла не только на хлопководческие районы. Она также изменила экономическую ориентацию других частей региона, с тем чтобы они также были ориентированы на максимизацию производства хлопка. Из-за нехватки продовольствия и сокращения поставок зерна из России после 1927 года Исаак Зеленский и другие европейские большевики начали проводить политику, напоминающую «импортозамещение» на региональном уровне. Не имея возможности получить продовольствие за пределами Центральной Азии, они искали его в тех частях Центральной Азии, которые были непригодны для производства хлопка, таких как Юго-Восточный Казахстан и Северный Кыргызстан. Это соответствовало установленному прецеденту: еще в декабре 1926 года Среднеазиатский экономический совет (СредАзЭкоСо) проводил политику запроса поставок зерна за пределами региона только в том случае, если все поставки из Центральной Азии были исчерпаны52. После зернового кризиса 1927-28 гг. чиновники в Кыргызстане, действуя по приказу Зеленского, начали конфискацию зерна, значительно превышающего отчетные суммы, для того чтобы прокормить хлопководческие районы53. В 1927 году партийные чиновники также скупали (по ценам ниже рыночных) вьючных животных в животноводческих районах54. Позже, принудительные поставки скота были направлены на удовлетворение потребностей в шкурах и мясе55. По мере осуществления первого пятилетнего плана должностные лица постоянно требовали высоких квот на продовольственные товары даже в годы неурожая и гибели скота. Отчасти из-за этого, зерновые и животноводческие — не хлопководческие — районы испытали сильнейший голод 1932-34 годов в Кыргызстане56. Хлопкизация Средней Азии сказалась на всей региональной экономике, так как ради максимально прибыльного хлопка в жертву была принесена продовольственная безопасность.
Советские планировщики организовали не только сельское хозяйство, но и промышленность вокруг переработки сырья, главным образом хлопка, для Советского центра. Советские чиновники калибровали промышленное развитие региона, чтобы максимизировать выпуск сырья. С этой целью промышленные инвестиции в 1920-1930-е годы были сосредоточены главным образом на добыче полезных ископаемых (преимущественно европейская занятость) и увеличении производства хлопка. Строительство предприятий по производству товаров народного потребления (таких как сахар, мука, молочные продукты, алкоголь, сухофрукты) имело второстепенное значение и шло без достаточного финансирования57. Добыча ресурсов даже послужила главной причиной крупнейшего в Центральной Азии инвестиционного проекта 1920-1930-х годов — Туркестано-Сибирской железной дороги, которую Феликс Дзержинский, Алексей Рыков и другие советские лидеры продвигали прежде всего как средство освобождения Советского Союза от зависимости от импорта хлопка58. Другие крупные капиталовложения включали строительство ирригационных сооружений для увеличения посевных площадей хлопчатника и строительство хлопкопрядильных заводов59.
Несмотря на ориентацию промышленного развития Центральной Азии на поставки сырья в европейские регионы СССР, многие партийные лидеры стран Центральной Азии изначально проявляли энтузиазм к промышленному развитию, так как обещали создать местный пролетариат и продвинуть регион, в Советской формулировке, «в сторону социализма, минуя капитализм». Но к концу 1920-х годов они обнаружили, что крупные капитальные проекты и промышленные предприятия нанимали в основном европейских рабочих — часто за пределами Центральной Азии — по их возражениям. Например, на крупнейшем инфраструктурном проекте в Центральной Азии — Турксибе — казахи составляли лишь 20% рабочей силы в период его строительства в конце 1920-х годов и были заняты на самых низкоквалифицированных должностях, к ужасу Турарара Рыскулова, одного из самых выдающихся жителей Центральной Азии в Советском правительстве60. При работе на таких проектах развития, жители Центральной Азии, как правило, выполняли только самые неквалифицированные задачи, такие как рытье, и работали на сезонной или временной основе61. Поэтому большинство жителей Центральной Азии, работавших в промышленности, не воспринимали себя в качестве квалифицированных рабочих в новом сталинском рабочем классе. Поскольку хлопок считался чрезвычайно важным, Кремль игнорировал опасения Центральной Азии по поводу любого другого вопроса промышленной политики62. Следовательно, подавляющее большинство коренного населения оставалось за пределами зарождающейся индустриализации Центральной Азии. Единственным исключением из этой тенденции были казахи, которые в середине 1930-х годов присоединились к промышленной рабочей силе в большом количестве не по собственному выбору, а потому, что голод 1932-34 годов заставил их отказаться от выпаса скота и мигрировать в промышленные центры для выживания63.
Независимо от намерений и усилий советского правительства и Коммунистической партии, Центральная Азия тогда демонстрировала важные характеристики колониальной экономики в своей ориентации: ее роль в Советском порядке заключалась в поставках сырья по ценам ниже мировых в интересах промышленного развития в Центральной России и советской торговли. Такое развитие событий имело четкое экономическое обоснование. Не имея сырьевой базы в колониях за рубежом, Советское государство создало таковую на родине, интенсифицировав производство хлопка и установив европейское регулирование после 1929 года. Кроме того, в то время как царистское правительство разрешало коренным народам регулировать торговлю и коммерцию и владеть ею, советские институты господствовали почти во всех аспектах экономической жизни. Ограничения на частную экономическую деятельность оттеснило частную торговлю и рынок из рук среднеазиатов (подчиненную группу) и поместило их под контроль экономических органов, в которых господствовали европейские чиновники (в основном русскоговорящие). Земельно-водные реформы 1926-28 гг. и репрессии состоятельных землевладельцев ликвидировали частные источники сельскохозяйственного кредита, поставив почти все сельскохозяйственные финансы под контроль государственных органов. В равной или большей степени, чем в европейских колониальных владениях в Африке и Азии, советское руководство структурировало экономику Центральной Азии, чтобы служить далекой метрополии, даже проводя политику, такую как коренизация (в оригинале «индигенизация» прим.пер., обсуждается ниже), которая направлена на преодоление колониального наследия в регионе64. Хлопок был главным товаром региона до начала Второй мировой войны, но были и другие — включая шерсть, кожу и (позже) уголь, нефть, природный газ, бокситы, уран и табак — все товары для советской промышленности за пределами региона. То, что требовалось советской промышленности, Центральная Азия должна была поставлять с минимальными затратами для международного торгового баланса и всесоюзного бюджета.
Политическая зависимость
Экономическая зависимость Центральной Азии фактически подорвала политические цели центральноазиатских коммунистов, таких как Юсуп Абдрахманов. Регион, конечно, оставался колонией и до революции, когда он был производителем хлопка и другой сельскохозяйственной продукции для рынков Имперской России. В той мере, в какой большевики унаследовали экономическую инфраструктуру, созданную в царский период, неудивительно, что, когда-то прочно контролируя регион, они тоже будут ориентировать экономику Центральной Азии на товарное производство. В то же время большевистское руководство с самого начала своего правления взяло на себя обязательство по деколонизации политической повестки дня, которая продвигала интересы ранее угнетенных групп меньшинств и обещала им определенную степень автономии и признания в новом советском порядке. Тысячи молодых среднеазиатов примкнули к советскому знамени во время Гражданской войны из-за антиколониальной идеологии большевиков. Эти «национал-коммунисты» видели в большевистском режиме союзников не только в свержении Туркестанского царского правительства и его протекторатов в Бухаре и Хиве; они также смотрели на них как на партнеров в модернизации центральноазиатского общества65. Только через несколько лет большинство из них осознало, что экономическая зависимость от советского ядра подрывает очевидные цели большевиков в области деколонизации.
Мы уже видели, как советское руководство в Москве сознательно превратило регион в важного поставщика сырья для улучшения внешнеторгового баланса СССР. Это фактически отняло у властей национальных республик принятие экономических решений и относило их к перекрывающимся юрисдикциям всесоюзных или панрегиональных экономических органов (таких, как государственный плановый комитет [Госплан], Центральноазиатский экономический совет и центральноазиатское водное управление). Для Центральной Азии интеграция в советскую экономику повлекла за собой подчинение местных потребностей Всесоюзным, что столкнулось с предполагаемой программой деколонизации, вызвав возмущение наиболее видных лидеров коренных народов. В 1926 году, Ганихан Хамутханов, представитель Узбекистана в Центрально-Азиатском экономическом совете, возмутился контролем совета производства зерновых в Узбекистане, объявив, что права для регулирования внутреннего рынка зерна «являются неотъемлемой частью суверенитета Узбекской ССР»66. В 1927 году Махмуд Тумаилов, туркменский чиновник, публично осудил экономический совет за то, что тот лишил национальные республики их экономической автономии, и тем самым озвучил частные настроения многих других туркменских коммунистов67. Европейский руководитель казахской партийной организации Филипп Голощекин и его союзники осудили и заключили в тюрьму 44 выдающихся казахских интеллектуала в конце 1928 года, когда они выступили против их планов насильственного расселения кочевников и содействия выращиванию зерна в казахской степи68. К 1929 году, как указывается в письме Абдрахманова, императивы советской экономической системы практически полностью уничтожили надежды коренных жителей Центральной Азии на контролирование своей экономической судьбы.
Неспособность лидеров Центральной Азии влиять на происходящие вокруг них экономические изменения стала одной из главных мотиваций антисоветского инакомыслия среди коренных коммунистов Центральной Азии. Со временем многие почувствовали, что (в формулировке Адриенны Эдгар) к ним относятся как к «коммунистам второго ранга»69. В Кыргызстане эта напряженность разразилась скандалом в 1925 году, когда группа из тридцати кыргызских чиновников подписала письмо, протестуя против их исключения европейским руководством из любого реального процесса принятия решений. Среди требований о многочисленном найме коренного населения и административной автономии подписавшие соглашение требовали также землю, техническую помощь и сельскохозяйственные субсидии для местных кыргызских земледельцев и скотоводов70. Осуждение туркменским коммунистом Тумаиловым неспособности партии осуществлять национальную политику вызвало бурю негодования в партийной прессе и привело к тому, что сам Тумаилов был изгнан из партии71. В Казахстане союзники Голощекина изгнали из партии видного казахского коммуниста и просветителя Смагула Садвокасова, который сомневался, что большевистский стиль социализма был даже применим к кочевым казахским скотоводам. Как и ожидалось, после свержения Садвокасова оппозиция катастрофической политике Голощекина фактически исчезла72. Расследуя эти скандалы, Москва признала, что европейские большевики иногда плохо относились к своим центральноазиатским коллегам. Но по вопросу реальной экономической политики партия не потерпит инакомыслия. В кыргызском и туркменском делах вышестоящие партийные органы в Ташкенте и Москве выносили выговор или выгоняли из партии недобросовестных членов (после того, как называли их «буржуазными националистами»), понижая их в должности или увольняя одновременно со своих должностей в государственном аппарате. Жесткие меры по дисциплине несогласных граждан и членов партии вряд ли были уникальны для Центральной Азии, но в региональном контексте они не могли не напомнить многим центральноазиатским коммунистам о царистских временах, когда Европейский колониальный аппарат энергично подавлял местное сопротивление налогам, крестьянской внутренней миграции, конфискации земель и трудовой повинности73.
Культурное разделение труда
Советская экономическая зависимость в Центральной Азии имела важные социальные и политические последствия. В сочетании с политической маргинализацией центральноазиатских элит это привело к культурному разделению труда, которое является ключевой чертой, отличающей внутреннюю колонию от периферийного региона74. В частности, ориентация экономики и подчиненность коренного населения способствовали развитию профессиональной специализации по этническому или культурному признаку по мере развития советской индустриализации, и эта экономическая специализация укрепляла национальную самобытность. Профессиональная специализация возникает в тех случаях, когда представители различных этнических групп следуют различным карьерным траекториям и занимаются различной трудовой деятельностью либо из-за прямой предвзятости, либо, чаще в Советском случае, из-за отличий в доступе к советским образовательным, финансовым и административным ресурсам75. В Центральной Азии в межвоенные годы государственная экономическая политика даже поощряла профессиональную специализацию по национальностям. Продвижение в новых секторах социалистической экономики — тяжелой промышленности, транспорте, образовании и медицине — было, несомненно, возможно для жителей Центральной Азии. Однако это требовало знания русского языка и соблюдения европейских стандартов поведения и деятельности, что осложняло вхождение жителей Центральной Азии в эти сектора в 1930-е годы, поскольку подчеркивалась коренизация76. В то же время новая советская экономика направляла среднеазиатов на низкооплачиваемые, низкоквалифицированные профессии в производстве продуктов питания и сельскохозяйственных товаров, которые были почти полностью под опекой государства к началу 1930-х годов. Центрально-Азиатский рынок труда, поэтому, развит в двух направлениях: одно, с более высокообразованной, высокооплачиваемой рабочей силой, где преобладает русскоязычные и европейские народы, и другое, с более низкими доходами, необразованной рабочей силой, где были более распространены коренные жители Средней Азии.
В рамках рабочих профессий деятельность распределялась по этническому признаку. На основе данных переписи 1939 года Терри Мартин продемонстрировал, как коренизация увеличила вхождение восточных национальностей, включая жителей Центральной Азии, в сектор белых воротничков в конце 1920-х и 1930-х годах. Однако оставались расхождения в распределении титульной национальности: коренные жители Средней Азии и другие представители восточных национальностей, как правило, занимали видные руководящие посты (часто с небольшой реальной ответственностью) или неквалифицированные рабочие места (уборщицы, охранники, извозчики, и так далее), в то время как технический персонал — имевший специальное образование, такой как агрономы, инженеры, бухгалтеры, экономисты, врачи — состоял почти исключительно из европейцев77. Кроме того, Мартин определяет «технический/культурный раскол»: жители Центральной Азии (и другие представители восточных национальностей) были гораздо более склонны выбирать культурные или образовательные профессии (журналисты, музыканты, учителя, пропагандисты), чем идти в технические области, требующие специального образования78. Результатом этой профессиональной специализации стало назначение русскоязычных европейцев на важные должности в тех областях, которые были наиболее существенными для советских экономических целей, и, по обратную сторону, низведение жителей Центральной Азии до вспомогательных профессий, которые были в большей степени периферийными для советских экономических целей.
В промышленности и сельском хозяйстве занятость сократилась по этническому признаку, что свидетельствует о явной предвзятости в пользу европейских кадров в наиболее передовых секторах, требующих технической экспертизы. Следовательно, коренные жители Центральной Азии имели гораздо меньше шансов работать в промышленности и гораздо больше шансов работать в сельском хозяйстве, чем их европейские коллеги. Например, по данным переписи 1939 года, в Кыргызстане, представители титульной национальности составляли 52,1% от общего числа трудоспособного населения и преобладали в сельском хозяйстве (где кыргызы составляли 69.2% от сельскохозяйственной рабочей силы), однако уступали на рынке занятости в пяти крупнейших республиканских промышленных секторах: металлообработка (14,9%), горнодобывающая промышленность (20,2%), пищевая промышленность (18,1%), строительство (14,5%), транспорт (23,%)79. Аналогичные тенденции наблюдались и в других республиках, за редкими исключениями в Казахстане80. В Узбекистане, согласно той же переписи, узбеки составляли 64,8% от общей численности рабочей силы и 78,6% от численности сельскохозяйственных рабочих, но были недопредставлены в металлообработке (25,5%), транспорте (49,5%), строительстве (30,7%) и текстильном производстве (где они составляли 50,4% рабочей силы, в основном работая в небольших мастерских, а не на крупных фабриках)81. В Туркменистане на долю туркменов приходится 56,7% рабочей силы и 81,4% работников в сельском хозяйстве, но только 13,9% работников в металлургии, 29,4% транспортных работников, 22,3% работников пищевой промышленности и 18,7% строителей82.
Кроме того, жители Центральной Азии, которые могли работать в промышленных секторах, часто выполняли работу, требующую меньшей подготовки и образования. Например, по данным 1939 года, описанным выше для Киргизской ССР, 14,9% работников металлургии были кыргызами, 90% из которых (1632 из 1818) были отнесены к категории «кузнецы и молотобойцы», рабочие места, которые требовали сравнительно небольшого образования или подготовки с большей вероятностью были более кустарными занятиями, чем те, которые были тесно связаны с новой социалистической экономикой. В то же время Кыргызстан составлял очень небольшую долю работников в технологически продвинутых профессиях, которые требовали серьезной подготовки, таких как токари (2,2%), слесари (1,9%), монтёры и электромонтёры (3,4%) и механики (4,5%)83. Кроме того, кыргызы, которые нашли работу в современной промышленности, часто выполняли черную или второстепенную работу, как и в государственных учреждениях. Например, в 1933 году партийные инспекторы указывали на кооператив «Интергельпо» и Зеленский кожевенный завод во Фрунзе за то, что они поручали местным рабочим выполнять «вспомогательные, низкоквалифицированные работы» вместо того, чтобы обучать их84. В 1937 году кыргызский чиновник из партийного комитета республики назвал нескольких европейских менеджеров Кызылкийского угольного разреза «вредителями» за несправедливое увольнение кыргызских подмастерьев и удержание немногих среднеазиатских рабочих под своей властью на низком уровне — на низкооплачиваемых, низкоквалифицированных должностях — при продвижении менее опытных европейских рабочих85. Свидетельства широко распространенной дискриминации носят фрагментарный характер, а это означает, что предвзятое отношение было распространенным на центральноазиатских промышленных предприятиях на протяжении 1930-х годов. Кроме того, должностными лицами Центральной Азии, скорее всего, занижены проевропейским уклоном после волны разоблачений и преследований многих ведущих среднеазиатских коммунистов в 193386. Таким образом, хотя промышленное развитие привело некоторых центральноазиатских рабочих к промышленному труду, их число было невелико, а участие оставалось незначительным.
Даже в сельском хозяйстве, где жители Центральной Азии составляли большинство рабочей силы в каждой республике, они преобладали только в тех профессиях, где требовался минимум опыта и знаний. В Кыргызстане, по данным переписи 1939 года, кыргызы составляли 69,2% работников в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве, где они составляли 79,3% от всех «скотоводов и пастухов». Этнические кыргызы даже занимали значительный процент руководящих должностей, таких как заведующие товарными фермами, (67,8%) и руководители полевых бригад (72,9%). В то же время, однако, сельскохозяйственные профессии, требующие многолетнего формального образования, имели гораздо более низкий процент кыргызов: они составляли небольшое меньшинство агрономов (10,1%), ветеринаров (14,7%) и геодезистов (0,5%). Даже профессии, требующие всего лишь нескольких недель обучения, имели относительно небольшое число титульной национальности, например трактористы (35,%) и комбайнеры (25,7%)87. Как и в промышленности, доказательства широко распространенной предвзятости в отношении жителей Центральной Азии в более развитых секторах сельскохозяйственной экономики являются фрагментарными, но тем не менее убедительными. Например, партийные инспекции часто отмечали даже после 1934 года, что директора европейских совхозов часто не обучали своих местных рабочих или проявляли к ним откровенную враждебность88. Особенно после антинационалистической реакции 1933 года, коренизация получила гораздо более низкий приоритет, чем достижение производственных целей. Несмотря на четкую политику, направленную на интеграцию жителей Центральной Азии в квалифицированную рабочую силу, социалистическое сельское хозяйство оставило подавляющее большинство жителей Центральной Азии за пределами наиболее квалифицированных профессий как из-за прямой предвзятости европейских кадров, так и из-за необходимости выполнения плана.
На протяжении 1930-х годов стремительная социалистическая трансформация экономики Центральной Азии создала двухуровневую рабочую силу в сельском хозяйстве, промышленности и государственной службе и усилила культурное разделение труда. Такое культурное разделение труда в новой социалистической экономике, вероятно, усилило идентификацию жителей Центральной Азии с приписываемой им национальной идентичностью. Хотя центральноазиатские политические и культурные элиты уже сформировали национальную идентичность после создания национальных территорий, опыт хлопкизации и первый пятилетний план привнесли понятие национальности в трудовую жизнь простых советских граждан. Как и экономики центральноазиатской периферии и советского ядра, национальные идентичности коренного и европейского населения развивались взаимодополняюще. В этой связи Хехтер пишет: «Актеры классифицируют себя и других в соответствии с диапазоном ролей, который каждый способен играть»89. Этнические маркеры — внешний вид, язык, культурные обычаи, вроде религиозных обрядов, — характеризуют обе группы, выступая в качестве видимых сигналов для той роли, которую будет играть любой человек или группа. «Такие видимые сигналы позволяют осуществлять межгрупповое взаимодействие, обязательно предполагающее определенную общность определений со стороны взаимодействующих партнеров»90. По этой причине, в Центральной Азии идентификация с определенной национальностью является средством определения собственного статуса, поскольку национальность является ключевым критерием при определении доступа к социальным услугам и экономическим возможностям. Кроме того, категория служила средством конструирования солидарностей как среди представителей русскоязычной основной культуры, так и среди представителей периферийных среднеазиатских культур.
Советское государство установило категорию национальности в 1920-х годах, где ранее религиозная, родственная или местная принадлежность служила наиболее заметными культурными маркерами в Центральной Азии91. Но в то время как агенты советского государства и центральноазиатские элиты формулировали национальности через территориальное размежевание, этнографическое определение и лингвистическую кодификацию, эти категории требовали интеграции в повседневные практики, чтобы проникнуть в сознание большинства жителей Центральной Азии. Проведение переписи само по себе не могло привить чувство собственной национальности. Переписчики сообщили о значительных трудностях с получением ответов на вопрос «какова ваша национальность?» по переписи 1926 года, так как ответы жителей Центральной Азии и других национальных меньшинств часто не соответствовали официальному списку 188 национальностей (народностей)92. Распространение внутренних паспортов, начиная с 1932 года, также не обязательно означало, что население Центральной Азии примет национальность в качестве основной части своей собственной самоидентификации. Идентификация центральных азиатов с национальной группой развивалась вместо этого на основе их повседневного опыта в экономике, теперь посвященной «строительству социализма». Национальность, появившаяся в регионе в начале-середине 1920-х годов, приобрела значение для жителей Центральной Азии в течение последующего десятилетия не только благодаря советскому пограничному производству, культурной пропаганде и паспортизации. Национальность стала решающей для Центральной Азии, поскольку, как советские граждане, они использовали национальные категории в отношениях с государственными учреждениями, поскольку таковые применялись для получения семейных кредитов, в организованном коллективном труде, или давали возможности для получения образования, переезда в новые жилища и поиска работы. Использование национальных категорий стало необходимым, поскольку советская индустриализация в 1930-х годах повлекла за собой массовую трансформацию сельского хозяйства и промышленности Центральной Азии. Таким образом, советская экономическая интеграция способствовала национальной самоидентификации: вовлекая жителей региона, отводя им место в трудовой структуре, основанной на культурных особенностях, она создавала потребность в новых национальных идентичностях, возникших в 1920-е годы.
Вывод
Радикальные изменения, которые претерпело центральноазиатское общество в межвоенные годы, были не просто «старым вином в новых бутылках» или возвращением к колониальному господству этнических русских. Скорее, эти изменения породили новый вид подчинения России, что во многом было обусловлено реакцией советского руководства на глобальное экономическое давление 1920-х годов. Поскольку советскому руководству было необходимо сделать торговый баланс более благоприятным и способствовать промышленному развитию, оно обратилось к Центральной Азии, бывшей царской колонии, ради поставок сырья и сокращения импорта хлопка. Экономика региона отошла от самодостаточности и экономической зависимости от небольшого количества сырьевых товаров к стимулированию развития советской промышленности в других частях Советского Союза. Эта экономическая трансформация лишила местных чиновников, особенно коренных жителей Центральной Азии, контроля над своими экономическими делами, что привело к политической напряженности между центральными, региональными и местными властями. В этой борьбе среднеазиатские противники Москвы проиграли, а советское руководство к концу 1930-х годов успешно поставило на их место податливых чиновников. Экономические изменения в регионе также создали новое культурное разделение труда, которое отражало различия между европейцами и жителями Центральной Азии в доступе к образовательным и административным ресурсам. Поэтому реакция советского руководства на давление со стороны мирового рынка (главным образом, неблагоприятный торговый баланс и отсутствие доступа к кредитам) и развитие тяжелой промышленности превратили Центральную Азию во внутреннюю колонию.
1 Ранее Абдрахманов использовал антиколониальную риторику для содействия экономическому развитию Кыргызстана. В 1927 году он заявил, что план советского железнодорожного комиссариата по обходу Киргизии при строительстве Туркестан-Сибирской железной дороги (Турксиб) превратит республику в «колонию» и почти преуспел в перенаправлении Турксиба через Северный Кыргызстан. См. Matthew Payne, Stalin’s Railroad: Turksib and the Building of Socialism (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2001), 35—36.
2 Юсуп Абдрахманов, 1916. Дневники. Письма к Сталину (Бишкек: Кыргызстан, 1991), 213.
3 Там же, 214. Хотя он не упоминает об этом в письме, Абдрахманов, возможно, был вынужден потребовать статус союзной республики в связи с превращением Таджикистана из АССР в союзную республику месяцом ранее.
4 Там же.
5 «Советский Восток» здесь употребляется в отношении нерусских районой на Кавказе, средней и нижней Волге, Средней Азии и Сибири. Термин «восточные национальности» относится к нерусским жителям этих регионов. Более подробное объяснение этих терминов, используемых в Советском Союзе в межвоенные годы, см .: Terry Martin, The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001), 126—29.
6 Несколько недавних историков советской национальной политики подробно изучили это противоречие, в том числе там же, 129-32; Francine Hirsch, Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005), chap. 2; Peter Blitstein, «Stalin’s Nations: Soviet Nationality Policy between Planning and Primordialism, 1936—1953» (Ph.D. diss., University of California, Berkeley, 1999); and Yuri Slezkine, «The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism» Slavic Review 53, 2 (1994): 414—52. Подробный взгляд на эту проблему в центральноазиатском контексте см. Adrienne Edgar, Tribal Nation: The Making of Soviet Turkmenistan (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004), 13.
7 Абдрахманов, 1916, 111. Советские чиновники обычно использовали термин «европеец» для обозначения россиян, украинцев, немцев, евреев, поляков, латышей и других людей из европейских частей Советского Союза, которые жили в Центральной Азии. Часто некоренные татары также считались «европейцами» в терминологии местных и некоренных жителей. В этой статье используется термин в соответствии с советским использованием.
8 Перспективу эмиграции см. Baymirza Hayit, Turkestan im XX. Jahrhundert (Darmstadt: C. W. Leske, 1957) и Mustapha Chokaiev, «Turkestan and the Soviet Regime» Journal of the Royal Central Asian Society 18 (1931): 403—20. Работы, опубликованные во время холодной войны, которые поддерживали утверждение о том, что Центральная Азия является советской колонией, включают в себя M. Holdsworth, «Soviet Central Asia, 1917—1940» Soviet Studies 3, 3 (1952): 258—77; Olaf Kirkpatrick Caroe, Soviet Empire: The Turks of Central Asia and Stalinism (London: Macmillan, 1953); и Edward Allworth, ed., Central Asia: A Century of Russian Rule (New York: Columbia, 1967). Заметным исключением из этого общего взгляда является Alec Nove, The Soviet Middle East: A Communist Model for Development (New York: Praeger, 1967).
9 Paula Michaels, Curative Powers: Medicine and Empire in Stalin’s Central Asia (Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2003), 4—7. Некоторые политологи также приняли эту перспективу в последних работах; см. Tom Everett-Heath, ed., Central Asia: Aspects of Transition (London:RoutledgeCurzon, 2003), i; and Kathleen Collins, Clan Politics and Regime Transformation in Central Asia (New York: Cambridge University Press, 2006), 65—67. Douglas Northrop имеет несколько более тонкую точку зрения, в которой признается, что Советский Союз, хотя и сопоставим с западными державами, был, тем не менее, другой формой империи (Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia [Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004], 21—24).
10 О российской и советской «цивилизаторской миссии» см. Jorg Baberowski, «Auf der Suche nach Eindeutigkeit: Kolonialismus und zivilisatorische Mission im Zarenreich und in der Sowjetunion» Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas 47, 4 (1999): 482—503.
11 Это формулировка встречается у Адеба Халида в «‘Backwardness’ and the Quest for Civilization: Early Soviet Central Asia in Comparative Perspective» Slavic Review 65, 2 (2006): 232. См. также Christian Teichmann, «Canals, Cotton, and the Limits of De-Colonization in Soviet Uzbekistan, 1924—1941» Central Asian Survey 26, 4 (2007): 499—519; и Marianne Kamp, The New Woman in Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling under Communism (Seattle: University of Washington Press, 2006), 4, 9-10.
12 Для объяснения термина «правление колониальных различий» см. Partha Chatterjee, The Nation and Its Fragments: Colonial and Post-Colonial Histories (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), 16-27. О «колониальных различиях», как это проявлялось в царской Центральной Азии, см. Jeff Sahadeo, Russian Colonial Society in Tashkent, 1865—1923 (Bloomington: Indiana University Press, 2007); Daniel Brower, Turkestan and the Fate of the Russian Empire (London: RoutledgeCurzon, 2003); и Alexander Morrison, Russian Rule in Samarkand, 1868—1910: A Comparison with British India (Oxford: Oxford University Press, 2008).
13 Хотя, конечно, обращение Абдрахманова к Сталину показывает, как лидеры Центральной Азии никогда не имели желаемого контроля над государственной политикой.
14 Среди наиболее известных представителей центральноазиатских народов, которые сотрудничали с руководством большевиков в 1920-х и 1930-х годах, были Санджар Асфендиаров, Файзулла Ходжаев и Абдурауф Фитрат, которые были сторонниками дореволюционного движения джадидов мусульманских модернизаторов. Об этом движении и его влиянии на советское центральноазиатское руководство в 1920-х и 1930-х годах см. Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia (Berkeley: University of California Press, 1998); и Roger D. Kangas, “Faizulla Khodzhaev: National Communism in Bukhara and Soviet Uzbekistan, 1896—1938” (Ph.D. diss., Indiana University, 1992).
15 Действительно, некоторые предлагают периферийный экономический статус Центральной Азии как краеугольный камень аргумента западных ученых о том, что советская власть в Центральной Азии была колониальной. Как пишет Паула Майклс, «в основе сложной национальной политики советского государства лежит стремление экономически эксплуатировать периферию, это общая черта всех империй» (Curative Powers, 7). Адеб Халид также признает, что экономические отношения между Средней Азией и Советским Союзом — это «где колониальный аргумент наиболее лёгок» («‘Backwardness’ and the Quest for Civilization», 232, п. 3). Для интересного обсуждения западной историографии о советском колониализме см. Кристиан Тейхман, «Колониализм как личный опыт: большевики Средней Азии, 1920-1941 гг» в Трактория в сегодня: Россыпь историко-биографических артефактов. К юбилею профессора И. В. Нарского, изд. О. С. Нагорная, О. Г. Никонова, Ю. Хмелевская (Челябинск: Энциклопедия, 2009), 249-71.
16 Единственным исключением является обсуждение Мэтью Пейн о неудачной попытке Советского Союза «подделать коренной пролетариат» на Турксибе в конце 1920-х годов (Stalins Railroad, особенно глава 5). О роли экономической политики в борьбе с восстаниями 1929-30 в Кыргызстане см. Бенджамин Benjamin H. Loring, «Rural Dynamics and Peasant Resistance in Southern Kyrgyzstan, 1929-1930» Cahiers du monde russe 49, 1 (2008): 183-210.
17 Hirsch, Empire of Nations, 168—69; Arne Haugen, The Establishment of National Republics in Soviet Central Asia (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 188—94; Benjamin H. Loring, «Building Socialism in Kyrgyzstan: Nation-Making, Rural Development, and Social Change, 1921—1932» (Ph.D. diss., Brandeis University, 2008), 101—8.
18 Michael Hechter, Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1999). Хотя социологи разработали концепцию внутреннего колониализма, главным образом, для описания центрально-периферийных отношений в капиталистических странах, несколько исследований применили этот термин к Советскому Союзу. Элвин У. Гулднер использует его в «Stalinism: A Study of Internal Colonialism» (Telos, no. 34 [Winter 1978]: 5—49). Однако Гулднер понимает внутренний колониализм иначе, чем Хехтер, как детерриториализированный феномен принудительного неравного обмена между ядром рабочего класса и сельской аграрной периферией. Линн Виола использует этот термин таким же образом при описании сельской местности как внутренней колонии для советского государства (The Unknown Gulag: The Lost World of Stalin’s Special Settlements [Oxford: Oxford University Press, 2007], esp. 185—88). Несколько авторов охарактеризовали отношения между Москвой и нерусскими союзными республиками в послевоенную эпоху как форму «внутреннего колониализма»: см., например, Immanuel Wallerstein, “The Two Modes of Ethnic Consciousness: Soviet Central Asia in Transition?” в The Nationality Question in Soviet Central Asia, ed. Edward Allworth (New York: Praeger, 1973), 168—75; и Colin W. Mettam and Stephen Wyn Williams, «Internal Colonialism and Cultural Divisions of Labour in the Soviet Republic of Estonia» Nations and Nationalism 4, 3 (1998): 363—88. Меттам и Уильямс явно используют структуру Хехтера. Грэм Смит использует много элементов этой структуры в своем анализе, но предпочитает термин «федеральный колониализм» для описания советского дела (Planned Development in the Socialist World [Cambridge: Cambridge University Press, 1989], chap. 5).
19 Hechter, Internal Colonialism, xiv.
20 Там же, xv..
21 Там же, 39.
22 Там же, 33.
23 Richard A. Pierce, Russian Central Asia, 1867—1917: A Study in Colonial Rule (Berkeley: University of California Press, 1960), 163-65.
24 Там же, 166.
25 Восстание 1916 года было восстанием среднеазиатов против политики царской воинской повинности и посягательства европейских поселенцев на кочевые земли, особенно в современном Казахстане и Кыргызстане. В результате конфликта тысячи европейских поселенцев и сотни тысяч коренных жителей Центральной Азии погибли в результате насилия, голода и давлений в 1916 и 1917 годах. Многие другие уехали, часто бежали в Китай и другие соседние страны. См. Edward D. Sokol, The Revolt of 1916 in Russian Central Asia (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1954); Jorn Happel, Nomadische Lebenswelten und Zarische Politik: Der Aufstand in Zentralasien 1916 (Stuttgart: Franz Steiner, 2010).
26 Alexander Garland Park, Bolshevism in Turkestan, 1917—1927 (New York: Columbia University Press, 1957), 257-58.
27 Там же, 263. Для примера в 1918, см. В.Ленин «Набросок плана научно-технических работ» в Полном собрании сочинений, пятое издание (Москва: государственное издательство политической мысли, 1967), 26: 228-29.
28 Park, Bolshevism, 260.
29 Там же, 263.
30 Там же, 264; Sahadeo, Russian Colonial Society, 215. У этой точки зрения были противники. В июне 1920 года Я.Э. Рудзутак возражал против возвращения Центральной Азии к этой роли и вместо этого выступал за индустриализацию региона, но эти предложения широко игнорировались европейскими большевиками, руководившими советской администрацией в Туркестане (Sahadeo, Russian Colonial Society, 226).
31 Импорт хлопка составлял 32,7% от стоимости всего импорта в 1923/24 году. Импорт машин для промышленности и транспорта составил лишь 12,4% в этом году. Цифры из Michael Repplier Dohan, «Soviet Foreign Trade in the NEP Economy and Soviet Industrialization Strategy» (Ph.D. diss., Massachusetts Institute of Technology, 1969), 632.
32 Park, Bolshevism, 314—15.
33 Рассчитано там же, 300, 318.
34 Там же, chap. 7. Хотя некоторые усилия по оказанию помощи начались в 1921-1922 годах, они достигли значительной доли среднеазиатских производителей хлопка только во время реформ земли и воды 1926-1928 годов.
35 Статья Oscar Sanchez—Sibony на этом форуме описывает, как советская зависимость от экспорта зерна ограничивала индустриализацию страны в конце 1920-х годов.
36 Урожайность между 1924 and 1926 колебалась от 176 пудов хлопкового пуха за акр до 239 пудов, тогда как в 1915 году этот показатель составлял 297 пудов (Park, Bolshevism, 317—18).
37 R. W. Davies, The Socialist Offensive: The Collectivization of Soviet Agriculture, 1929—1930 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980), 19.
38 Dohan, «Soviet Foreign Trade» 538.
39 Фактические цифры составили 32,7% в 1923/24, 18,5% в 1924/25, 15,6% в 1925/26, 18,5% в 1926/27 и 16,3% в 1927/28. К другим ценным импортам относятся шерсть (7,1% в 1926/27 году) и необработанная кожа (5,4%), которые также поступали в больших количествах из Центральной Азии (там же, 632).
40 Цена на американские усредненные 7/8 дюймов выросла с 13-14 центов за пуд в марте 1927 года до 20-22 центов за пуд в сентябре того же года (там же, 395).
41 Там же, 626—27. Это пропорциональное увеличение произошло частично в результате соответствующего сокращения экспорта зерна. По словам Дохана, экспорт зерна составил 26,7% от стоимости всего экспорта в 1926/27-м экономическом году, но только в 5,1% в 1927/28 году. Санчес-Сибони в другом месте в этом вопросе утверждает, что этот катастрофический спад побудил Сталина объявить победную левую оппозиционную экономическую платформу в 1928 году.
42 Michael R. Dohan, «The Economic Origins of Soviet Autarky 1927/28–1934» Slavic Review 35, 4 (1976): 605.
43 Loring, «Rural Dynamics» 186–88.
44 Там же.
45 Loring, «Building Socialism» 220-22. Хотя изначально урожайность хлопка снижалась, поскольку вынужденное перераспределение земель и запасов разрушало более крупные и более эффективные фермы, государство смогло обеспечить расширение производства хлопка через производственные и торговые кооперативы, от которых зависели все крестьяне в хлопковых районах, тем самым увеличив общее снабжение. Эту тенденцию в Кыргызстане см. там же, 222.
46 Loring, «Rural Dynamics» 187–88.
47 Dohan, «Soviet Foreign Trade» 586.
48 Ошский кантон в Кыргызстане был одним из районов, который перестал быть чистым производителем зерна, и стал чистым потребителем в течение позднего НЭПа и, следовательно, периодически испытывал нехватку продовольствия. В августе 1927 года исполнительный комитет Ошского кантона запретил частную торговлю зерном. See Ошский областной государственный архив (ООГА) f. 1, op. 1, d. 111, l. 28 («Протокол № 9 заседания фракции ошского кантисполкома» 14 августа 1927).
49 Moshe Lewin, Russian Peasants and Soviet Power: A Study of Collectivization (London: Allen and Unwin, 1968), 216.
50 Центральный государственный архив политической документации Кыргызской Республики (ЦГА ПД КР) f. 10, op. 2, d. 377, ll. 50—50 ob. (к Двинову, 12 августа 1929).
51 См. e.g., ЦГА ПД КР f. 7, op. 1, d. 246, ll. 26—27 (Хохлов, «Состояние хлебного рынка» 20 апреля 1929).
52 ООГА f. 1, op. 1, d. 84, ll. 73—74 (Президиум СредАзЭкоСо, «Выписка из протокола №13» 15/16 ноября 1926).
53 ЦГА ПД КР f. 10, op. 1, d. 155, l. 3 (Исполбюро Киргизского обкома, «Протокол № 22» 13 мая 1928).
54 ЦГА ПД КР f. 10, op. 1, d. 130, ll. 65—74 («План-заготовки рабочего скота для землеустраиваемого населения южных кантонов в 1927—1928 году» 1927).
55 К 1933 году поголовье скота Кыргызстана и Казахстана упало, соответственно, на 22 и 16% от их уровней 1929 года, что в значительной степени обусловлено неконтролируемыми изьятиями государственными органами. Для сравнения, в 1933 году Советский Союз в целом имел половину крупного рогатого скота и свиней и одну треть овец от показателей 1928 года. См. Niccolo Pianciola, «Famine in the Steppe: The Collectivization of Agriculture and the Kazak Herdsmen, 1928—1934» перев. Susan Finnel, Cahiers du monde russe 45, 1/2 (2004): 165—67.
56 Loring, “Building Socialism” 333. Самые гористые территории Кыргызстана производили хлопок только в относительно небольшой части Ферганской долины. Большая часть территории Кыргызстана, и поэтому большая часть его сельскохозяйственных рабочих, была посвящена животноводству и / или выращиванию сельскохозяйственных культур, кроме хлопка. Обзор различных сельскохозяйственных зон Кыргызстана см. И. И. Ибраимов, Борьба парторганизации Киргизии за подготовку условий сплошной коллективизации сельского хозяйства, 1926-1930 гг. (Фрунзе: Издание Кыргызстан, 1967), 20-23.
57 В Кыргызстане инвестиции в потребительские товары были значительно ниже целевых показателей до конца 1930-х годов. Однако добыча угля оставалась первоочередной задачей и получила обещанное финансирование. См. Джениш Джунушалиев, «Время созидания и трагедии»: 20-30-е годы XX в. (Фрунзе: Илим, 2003), 168-84.
58 Payne, Stalins Railroad, 18-19.
59 Дискуссия о строительстве канала см. Teichmann, «Canals, Cotton, and the Limits of De-Colonization» 509-13.
60 Payne, Stalins Railroad, 232-41.
61 Там же.
62 Кристиан Тейхман рассказывает, как первый секретарь ЦК Компартии Акмал Икрамов попытался обсудить промышленное развитие с Серго Орджоникидзе, тогдашним наркоматом тяжелой промышленности, и был сердито выгнан («Canals, Cotton, and the Limits of De-Colonization», 507).
63 Payne, Stalin’s Railroad, 241; Isabelle Ohayon, La sedentarisation des Kazakhs dans lURSS de Staline: Collectivisation et changement social (1928—1945) (Paris: Maisonneuve et Larose, 2006), 299-302.
64 В отличие от советской политики британцы сознательно ориентировали экономику северной Нигерии на экспорт хлопка и арахиса в 1920-х годах. См. Moses E. Ochonu, Colonial Meltdown: Northern Nigeria in the Great Depression (Athens: Ohio University Press, 2009).
65 О напряженности между преимущественно европейскими большевиками и мусульманскими национал-коммунистами см. Alexandre Bennigsen, Muslim National Communism in the Soviet Union: A Revolutionary Strategy for the Colonial World (Chicago: University of Chicago Press, 1980).
66 ООГА f. 1, op. 1, d. 88, l. 84 (Президиум СредАзЭкоСо, «Выписка из протокола №13» 15/16 ноябрь 1926).
67 Edgar, Tribal Nation, 116.
68 Ohayon, La Sedentarisation des Kazakhs, 119—20.
69 Edgar, Tribal Nation, 115.
70 Loring, “Building Socialism,” 117—30.
71 Edgar, Tribal Nation, 115—18.
72 Ohayon, La Sedentarisation des Kazakhs, 122—24.
73 Хотя советские официальные лица широко использовали термин «буржуазный национализм» в осуждении своих нерусских противников во всем союзе, это не всегда имело место. В своей статье для этого форума Эндрю Слоин описывает использование обвинений в «троцкизме», чтобы опровергнуть оппонентов советской индустриальной политики в Белоруссии.
74 Hechter, Internal Colonialism, 349.
75 Примеры расистского уклона, препятствующие профессиональному продвижению на Турксиб, см. Payne, Stalins Railroad, 137-52. Для дифференциального доступа к сельскохозяйственным кредитам см. Loring, «Building Socialism», 207-8. Это был именно этот тип дифференцированного доступа к услугам и экономической поддержке, который Абдрахманов опротестовал в своем письме Сталину.
76 William Fierman, Language Planning and National Development: The Uzbek Experience (Berlin: Mouton de Gruyter, 1991), 193—210; Bhavna Dave, Kazakhstan: Ethnicity, Language, and Power (London: Routledge, 2007), 50—70.
77 Мартин называет это «дырой в середине» (Affirmative Action Empire, 140–42).
78 Там же, 380–87.
79 Шайыркул Батырбаева, «Демографическое развитие Кыргызстана в 20-50 годы XX-ого века» (Doc. diss., Национальная академия наук Кыргызской Республики, 2004), 339. Батырбаева делает расчеты из «Российских государственных архивов». 1562, op. 336, d. 265, 11. 49-53.
80 Казахстан, где насильственная седентиризация и голод 1932-33 гг. заставили большое количество кочевых пастухов войти в число промышленной рабочей силы, представляет собой исключение из общего правила.
81 RGAE f. 1562, op. 336, d. 262, ll. 66–71 («Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги, Узбекская ССР»).
82 Там же d. 261, ll. 48-52 («Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги, Туркменская ССР»).
83 Там же. d. 265, l. 52 («Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги, Киргизская ССР»).
84 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) f. 121, op. 2, d. 357, ll. 87—87 ob. (Письмо о голоде, 2 Октября 1933).
85 ЦГА ПД КР f. 10, op. 2, d. 674, ll. 21—26 ob. (Уразбай Бектенов, «Обследование управления подсоб. предприятия рудоуправления» 24 Январь 1937).
86 Руководство партии в Москве понизило в должности, очистило или даже арестовало нескольких откровенных коммунистов Центральной Азии, включая Абдрахманова, по сфабрикованным обвинениям в саботаже зерновых изъятий после дела Николая Скрипника 1933 года в Украинской ССР. Разумеется, последствия этого дела не ограничивались Центральной Азией: нерусские коммунисты по всему СССР боялись высказывать «национальные» претензии из-за страха быть обвиненными в «правых отклонениях» или «местном национализме». На этой и последующих вырождении “коренизации”, см. Martin, Affirmative Action Empire, 356-62.
87 RGAE f. 1562, op. 336, d. 265, ll. 50–52.
88 Для примера, смотри ЦГА ПД КР f. 10, op. 2, d. 1146, ll. 19—23 (С. Ельцов, «Докладная записка о положении в совхозе имени Баумана» 13 Октября 1936).
89 Hechter, Internal Colonialism, 40.
90 Там же.
91 John S. Schoeberlein-Engel, «Identity in Central Asia: Construction and Contention in the Conceptions of ‘Özbek,’ ‘Tâjik,’ ‘Muslim,’ ‘Samarqandi,’ and Other Groups» (Ph.D. diss., Harvard University, 1994), 19–26.
92 Hirsch, Empire of Nations, 128—31.